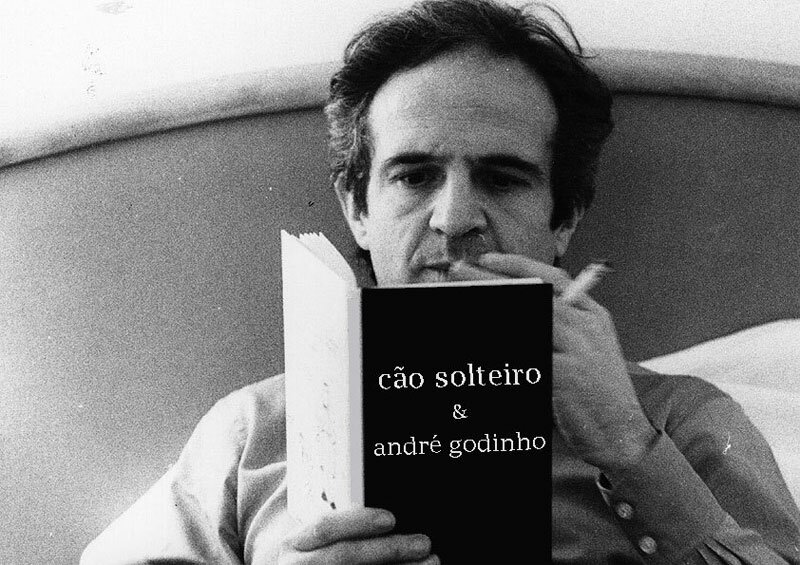В 1980 году кинокритикам журнала «Кайе дю Синема» удалось поговорить с одним из главных идеологов Новой волны французского кино, знаменитым режиссером Франсуа Трюффо. Это объемное интервью, в котором кинематографист подробно рассказывает о своих работах, о пристрастиях, своих взглядах на кинематограф и многом другом, позже вошло в состав книги «Трюффо о Трюффо: Фильмы моей жизни». В СССР текст был опубликован в 1987 году в переводе Нусиновой Н.М. после смерти режиссера в 1984 году.
«Кайе»: С каким чувством Вы приступаете к этой беседе? Мы предложили Вам провести ее около двух лет назад, но Вас словно что-то удерживало. Что же?
Трюффо: Давайте начнем, имея, однако, в виду, что беседу нашу, быть может, не опубликуют. Я отношусь к такого рода разговорам сдержанно, ибо чем больше работаю, тем меньше могу что-либо сказать о своей работе. Сейчас в самом разгаре монтаж фильма «Последнее метро», и я озабочен лишь сочетанием кадров, проблемой ритма, подбором планов, ролью музыки; и если разговор пойдет о чем-либо ином, мне придется притворяться заинтересованным.
Прежде интервью брали гораздо реже. Я написал книгу бесед с Хичкоком, желая показать американским журналистам, что этот знаменитый человек, недооцененный ими, был в Голливуде самым компетентным. Ныне в интервью заключается некий элемент рекламы, от которого мне очень не по себе. Конечная цель — продать товар, отсюда фразы типа этой: «Видите ли, перед вами не только история человека, больного раком, но и истинная песнь любви». Такой рекламы я стыжусь.
В конечном счете, я счастлив в кино потому, что оно дает мне возможность использовать время наилучшим образом. Писать сценарий трудно, но это этап не мучительный — если в какой-то день работается плохо, рвешь исписанные странички и назавтра начинаешь сначала; весь убыток — стоимость бумаги. Подготовительный период удручает меня тем, что, отвечая на все задаваемые вопросы, я кажусь сам себе маньяком, к которому относятся с подчеркнутым сочувствием. Важнейший этап — съемки; тут все происходит слишком быстро, но зато напряженно, эмоционально, постоянно находишься в действии, как бы там ни получалось. Наконец, словно некое облегчение, начинается монтаж: даже если актерам суждено умереть, все нужные кадры уже отсняты. При монтаже фильму больше нельзя повредить, зато есть время поэкспериментировать, поправить.
Выход картины на экран для меня мучителен, особенно из-за рекламы. Лучше всего — оказаться на это время вне Парижа. Я сохранил приятные воспоминания о выходе фильма «История Адели Г. «, ибо уехал тогда в Америку. Молодой исполнительнице главной роли был дорог этот фильм, и я не сомневался, что она сумеет достойно его представить. Больше всего я опасаюсь вопроса: «Как Вы определяете свое место в кино?» Мне кажется неприличным самому себя оценивать, в этом есть нечто противоестественное. И потом, приходится лгать, делая вид, будто достиг на экране всего, чего хотелось, тогда как в действительности ты сам себе лучший критик, во всяком случае, наиболее строгий.
Посредством интервью авторы пытаются в той или иной мере создать лестное о себе представление, что смехотворно. Когда я делал первые шаги в кино, мне, вероятно, нужно было признание, но теперь мое единственное желание — чтобы фильмы окупились, чтобы копии истрепались и я получил бы возможность продолжать работу. Добавлю, что я не уверен в том, что могу высказать что-либо новое; мои взгляды на кино меняются мало, я боюсь повториться. Вот уже десять лет, как в каждом интервью я говорю о фильме «Джонни дали винтовку», который поражает и соблазняет меня.
Вероятно, наиболее сильное впечатление производит то, что довелось увидеть прежде, чем ты стал кинематографистом. Порой я говорю себе, что для художника было бы логично ничего не одобрять в работе других. Если вы просто читатель или зритель, книга или фильм могут вам нравиться на сто процентов, потому что вас более волнуют намерения автора, нежели их воплощение. Если же вы сами — практик, то в исполнении другого всегда найдется деталь, различие, расхождение, мешающее безусловному признанию. Я очень высоко ставлю Чаплина, он для меня интереснее, чем сам Иисус Христос, но мне случается придираться к «Графине из Гонконга». Поэтому я полагаю, что, оценивая чужую работу, надо было бы абстрагироваться, принимать систему, выбранную другим, стараться следовать его правилам игры и высказывать замечания лишь о том, что представляется удачным.
«Кайе»: В конечном счете Вы требуете соблюдения своего рода профессиональной этики. Человек занимается своим делом, тратит свое время, и говорить об этом нечего, да и нескромно. Но не являетесь ли Вы одним из немногих, кто может так говорить, ибо все меньше людей, для которых кино — это профессия, то есть нечто такое, чем занимаются десять, двадцать лет, делая ежегодно по фильму, как, например, американцы? Ведь если кино — не профессия, тогда каждый фильм становится чуть ли не ловким фокусом, при котором ставят на карту свою судьбу; нечто подобное происходит сейчас во Франции.
Трюффо: Да. Если чувствуешь себя непонятым или отвергнутым, тогда беседа дает возможность объясниться, рождает надежду добиться понимания.
«Кайе»: В наши дни кинематографисты стараются вложить в фильм все, не будучи уверены, что потом им вновь удастся снимать; в результате получаются излишне насыщенные, как бы раздутые фильмы. А потом начинаются разговоры из-за отсутствия уверенности в том, что можно будет регулярно заниматься своей профессией. К Вам это не относится. Хотелось бы расспросить Вас, как Вы делаете «карьеру», или — если Вы считаете это выражение неприемлемым — как Вы обеспечиваете себе отсутствие простоев?
Трюффо: Слово «карьера» меня не шокирует, ни само понятие, ни то, что оно обозначает. Оно менее претенциозно, чем слово «творчество». Как бы то ни было, если что-то делаешь, живешь этим и хочешь продолжать — ты делаешь «карьеру». Я не хочу работать ни над чем, кроме фильмов. Если б я ослеп, я постарался бы продолжать, сотрудничая в создании сценариев.
Нападки на бедную французскую кинопромышленность, которую называют «доходным кино», по-моему, бьют мимо цели, ведь продюсеры один за другим терпят банкротство. Порой продюсеров попрекают тем, что они думают лишь о прибыли, порой над ними насмехаются, если они несут убытки. В Америке все гораздо проще: хорош тот фильм, который принес доходы, плох тот, на котором пришлось потерять деньги, — расчет тот же, что и в спортивных состязаниях. В Голливуде не тратят времени на эстетические дискуссии!
«К а й е»: Фактически очень мало режиссеров Вашего поколения, в особенности среди более молодых, кому удается в течение достаточно долгого времени снимать ежегодно по фильму и считать то, чем они занимаются, своей профессией.
Трюффо: Да, я думаю, мне помог вначале случай. Мой тесть, управляющий компанией «Косинор», стал продюсером моего первого фильма «400 ударов». Он посоветовал мне основать собственную производственную фирму, если я хочу сохранить свободу действий. И я организовал «Фильм дю каросс» (Carosse — карета (франц. ). — Прим. перев) — в память о «Золотой карете», — и по счастью, и ныне, двадцать лет спустя, эта маленькая компания все еще существует. Так все и началось с того первого фильма, который принес мне много денет; я лишь не мог предугадать, как мое поведение изменится под влиянием профессии. Всю свою юность я прогуливал уроки в школе, чтобы ходить в кино. Но с тех пор, как я стал владельцем компании «Фильм дю каросс» и конторы, я не мог пропустить ни одного рабочего дня. Даже когда на экран выходит новый фильм Бергмана или Феллини, я дожидаюсь семи часов вечера, чтобы пойти в кино, вероятно, из чувства ответственности перед теми, кто работает со мной.
Словом, если берешь на себя обязательства — их надо выполнять, тем более что я — не один. Вместе с Жаном Грюо, Сюзанной Шифман и другими сценаристами мы разрабатываем сценарий. Марсель Бербер, который с самого начала ведет дела фирмы «Фильм дю каросс», и мой агент Жерар Лебовиси определяют бюджет, изыскивают возможности финансирования и составляют договора, защищающие интересы фильма, — на этом этапе я всемерно опираюсь на их помощь; отныне игра состоит в том, чтобы делать то, что мне хочется, стараясь не тратить зря деньги финансистов. Без такой организации и такого окружения я, вероятно, не стал бы сохранять «Фильм дю каросс» и начал работать с продюсерами.
Продюсером моего второго фильма «Стреляйте в пианиста» был Пьер Бронберже, купивший короткометражку «Шпанята». Он отказался от «400 ударов», но ему понравился роман Дэвида Гудиса. Сначала картина «Стреляйте в пианиста» потерпела провал, подтвердив мнение прессы, поносившей «новую волну»: «Им удается первый фильм, потому что они рассказывают о своей жизни, а на втором они разбивают себе лбы из-за отсутствия профессионализма».
Этот ушат ледяной воды сделал очень тревожной атмосферу съемок картины «Жюль и Джим». Я смог сделать фильм лишь благодаря тому, что Жанна Моро поверила мне на честное слово; у нас не было прокатчика, — моего тестя не было уже в живых, — и только по завершении работы мы обрели уверенность в судьбе картины: она понравилась прокатной фирме «Сирицки», которая согласилась выпустить его на экраны. Фильм повсюду прошел хорошо, и у меня возникло впечатление, что я стал профессионалом.
Но едва Рей Брэдбери уступил мне права на экранизацию романа «451° по Фаренгейту», как я убедился в том, что никогда не найду во Франции средств для финансирования фильма. Американский продюсер Льюис Аллен обратился ко мне с предложением снять «День саранчи» по роману Натаниэля Уэста; а я выдвинул взамен идею «451° по Фаренгейту». Он согласился при условии, что фильм будет снят в Англии, на английском языке.
«Кайе»: Сейчас складывается впечатление, будто с годами Вы выработали весьма продуманную систему чередования замыслов. Глядя на последовательный ряд Ваших фильмов, кажется, будто Вы знаете, что такой-то замысел связан с риском, а другие не вызовут осложнений. Вы проводите линию, несколько напоминающую политику издателя, который публикует «трудное» эссе, зная, что оно пройдет за счет чего-то другого.
Трюффо: Моя единственная тактика чередования замыслов состоит в том, чтобы после каждого дорогого фильма снимать картину с очень малым бюджетом и тем самым не дать завлечь себя на путь эскалации, ведущей к серьезным уступкам, мании величия или к безработице. Вернувшись из Англии, я был полон решимости работать на два фронта, делать предпочтительно фильмы на французском языке и готовить одновременно несколько проектов. Снимая в начале 1968 года «Украденные поцелуи», я уже готовил «Сирену «Миссисипи»» и «Дикого ребенка». Деятелям компании «Юнайтед артисте» замысел «Дикого ребенка» не нравился главным образом потому, что я хотел снять черно-белый фильм. В конце концов они сказали: «Согласны на «Дикого ребенка», но постановка будет осуществляться вкупе с «Сиреной «Миссисипи»», так мы сможем покрыть убытки от одного фильма за счет доходов от другого». Я согласился, и произошла немыслимая вещь, доказывающая, что никогда нельзя загадывать: при бюджете в 750 миллионов «Сирена «Миссисипи»» потерпела убытков на 350 миллионов, а «Дикий ребенок», который стоил чуть меньше 200 миллионов, заработал 400!
По правде говоря, надо было бы вести речь не только об удачах и провалах, но также и о кажущемся успехе и кажущемся провале. Никогда не следует судить по количеству зрителей парижской премьеры, ибо по всей Франции это число может быть умножено в шесть раз, а один и тот же фильм можно продать в пятьдесят разных стран мира [… ].
«К а й е»: Складывается впечатление, будто мы являемся свидетелями полной и довольно опасной победы «политики авторства». Эта победа была одержана людьми, которые с первого же своего фильма либо сразу после него становятся в позу «авторов», но вот уже несколько лет на фоне разговоров о кризисе кино пробивается мысль, возвращающая нас к тому, что существование продюсера само по себе не так уж плохо. Не может же быть равновесия между этими двумя ситуациями, или, если угодно, компромисса?
Трюффо: По-моему, Хичкок был в своих высказываниях наиболее честным режиссером, даже если его мысль следует читать между строк. Когда мы с Шабролем впервые расспрашивали его, он говорил о компромиссе, и нас смутило, почему говорит о компромиссе человек, которому мы
пришли высказать свое восхищение? То же случилось, когда Базен расспрашивал его на Лазурном берегу во время съемок картины «Поймать вора». В итоге, поскольку даты этих бесед примерно совпадали, выяснилось, что они происходили вскоре после съемок фильма «Я исповедуюсь», фильма, концепция которого значительно ухудшилась, если сравнить первый вариант сценария с завершенным фильмом. В одной из двух недавно опубликованных книг о Монтгомери Клифте автор утверждает, будто в первом сценарии фильма «Я исповедуюсь» дело доходило до казни патера Логана, признанного виновным в убийстве.
Как и почему Хичкока заставили пойти на такую серьезную уступку, не знаю. Быть может, из-за давления религиозного порядка, поскольку фильм снимали в действующих церквах Квебека, быть может, по настоянию руководителей фирмы «Уорнер бразерс».
Во всяком случае, замысел фильма «Я исповедуюсь» пострадал, и Хичкоку пришлось снять финал в жанре полицейской ленты, что действительно слабее фильма в целом. Эта история показывает, насколько Хичкок был искренен в нашем первом интервью, а также свидетельствует о том, в какой мере ему пришлось бороться, чтобы создать такие шедевры, как «Окно во двор» или «К северу через северо-запад». Однако идея компромисса не слишком подходит к Хичкоку, ибо чаще всего ему удавалось установить соответствие между тем, что он мог, и тем, чего хотел. Когда же мы его поддразнивали, говоря: «А по сути дела, будь Вам предоставлена полная свобода, что бы Вы сделали?», он принимался описывать не какой-то авангардистский фильм, а фильм Хичкока, только с чуть более явной жестокостью. Мне думается, он был поражен дерзостями Штрогейма. Позднее он восхищался фильмом «Тристана», и я могу себе представить, как он сожалел, что не может себе позволить наделить прекрасную блондинку деревянной ногой. Впрочем, он отыгрывался на очках.
Рано или поздно будет отмечено, что все творчество Ренуара чувственно, тогда как все творчество Хичкока пронизано сексуальностью.
«К а й е»: Возвращаясь к теме заказного кино, я хотел бы сказать, что у меня нет впечатления, будто Вас вынуждали изменять в каком-нибудь из Ваших фильмов целую сцену, либо нечто важное.
Трюффо: Нет, я свободен в своих фильмах, хотя иногда сам себя сдерживаю; я налагал на себя ограничения в фильмах «Новобрачная была в черном», «Семейный очаг» и «Ускользающая любовь». Анри Ланглуа, которому понравились «Украденные поцелуи», сказал мне: «Теперь пора женить Жан-Пьера и Клод Жад», но, в конце концов, в этом не было, пожалуй, столь срочной необходимости! Что касается «Ускользающей любви», то, снимая этот фильм, я знал, что делаю глупость. Я уподобился канатоходцу без каната [… ].
«Кайе»: Как объяснить молчание, возникшее между Вами и журналом «Кайе дю синема»?
Трюффо: Вспоминается замечание, брошенное Ланглуа: «Вы все сошли с ума — Ромер, Ривет и Вы сами, — как можно было бросить «Кайе»». Я удивился и подумал, что он путает синематеку и журнал. Журнал принадлежит тем, кто пишет, а не тем, кто снимает фильмы, — это логично. Я отошел от работы в «Кайе» с того дня, как снял свой первый фильм: у меня действительно было чувство, будто я перешел в другой лагерь. Я хорошо понимаю Кокто, неотступно бичевавшего судей — всех, кто позволяет себе судить. Он предпочитал стоять на стороне тех, кто идет на риск. Помнится, однажды в воскресенье в гостях у Базена я придумал систему решетки с оценками фильмов в виде звездочек, которую Дониоль окрестил «Совет Десяти», но с того момента, как я отснял первые три метра пленки, я стал противником столь поспешного способа вынесения приговора: оценивать чужую работу крестиками, цифрами, кружочками и нулями — что за наглость! Я солидарен с Дюрас или Зиди, когда их оскорбляют из принципа, судя их работу не по исполнению, а по их намерениям. Двадцать лет назад меня поразило заявление Жюльет Греко в журнале «Парископ»: «У нас с мадемуазель Сильви Вартан совершенно разные профессии». Такое утверждение показалось мне предельно смехотворным, тем более со стороны человека с положением по отношению к начинающей актрисе. Я считаю, нельзя нападать на людей, которые моложе нас, по очень простой причине. Оглядываясь назад, мы, как правило, бываем невысокого мнения о себе, какими мы были пять или десять лет назад, считая, что стали теперь лучше, мудрее, сознательнее. Поэтому надо признавать за младшим собратом по меньшей мере то же право на ошибку, ту же возможность совершенствоваться. Все оказывается значительно сложнее потому, что, следуя логике, мы не должны нападать и на людей старше себя, которым осталось меньше жить. Не меньше, чем высказывание Жюльет Греко, меня поразила мысль Бернаноса в «Дневнике сельского священника»: «Я понял, юность благословенна, она воплощает риск, который сам по себе есть благословение». Эта замечательная фраза подействовала на меня, я проникся ею, в ней есть волшебство и истина; я помню о ней, даже когда решаю производственные вопросы. Например, мне всегда неприятно приносить убытки тем, кто меня финансирует, но, когда дело касается финансистов моложе меня, сама мысль об их возможных убытках по моей вине становится невыносимой, ибо мне кажется, что я их обжулил. Вскоре у меня возникнут в этой связи трудности, потому что все больше приходится работать с людьми моложе меня!
Тем более не рекомендуется критиковать людей своего поколения, ибо тут возникает иное препятствие — понятие удачи. Критиковать кого-то, кому повезло меньше, бесчестно; критиковать того, кому больше повезло, это зависть — единственный действительно смертный грех. Что касается людей одного поколения, занимающихся одинаковой деятельностью, то здесь возникает образ заключительной сцены из «Франциск, менестрель божий» Росселлини: монахи решили расстаться; они выходят в поле и начинают все быстрее кружиться вокруг самих себя, пока не падают в опьянении на землю; тогда они поднимаются и уходят каждый в том направлении, в каком по воле случая он упал. Что касается меня, то я еще часто беседую с Риветом (он помогал мне с композицией фильма «Новобрачная была в черном»); постоянно общаюсь с Жаном Орелем, Клодом Берри, Марселем Офюльсом, Клодом Миллером, Пьером Кастам или Рене, мы беседуем при каждой встрече [… ].
«К а й е»: В связи с опытом актерской работы в фильме «Тесные контакты третьей степени» хотелось бы знать, что Вы восприняли как намечающуюся перемену, как мутацию в кино Соединенных Штатов?
Трюффо: Я не силен в футурологии. Но склонен думать, что современное американское кино, несмотря на его жизнеспособность и фантастические сборы, несколько хуже европейского кино в целом. Когда Голливуд создаст фильм, подобный «Замужеству Марии Браун», я пойду смотреть его трижды. Содержание американских фильмов стало менее условным, чем прежде, но, поскольку их антиусловность фальшива, все испытывают ностальгию по условности. Когда зрители видят старый фильм компании «Уорнер бразерс», который стремительно разворачивается — с фальшивыми персонажами, в фальшивых ситуациях, но в ритме грома небесного, — все говорят: «Почему теперь больше не делают таких фильмов?», не отдавая себе отчета в том, что отвергли бы тот же фильм, будь он снят сегодня, фильм, чарующий их потому, что длительность истекшего времени убивает критическое отношение. То же можно сказать и об умерших актерах. «Почему нет больше таких актеров, как Марсель Эрран, Луи Салу, Жюль Берри?» Да как же, есть они — Патрик Дева-эр, Мишель Серро, Шарль Деннер, — но они не поражают, потому что живы, потому что их можно легко увидеть по телевидению.
Возвращаясь к нынешнему американскому кино, я сказал бы, что от некоторых фильмов создается впечатление, будто они возникли в результате многочисленных заседаний административных советов; смотришь и ощущаешь разного рода вмешательства, не всегда непременно идущие на благо фильму. Иногда я думаю, что значение, придаваемое призу «Оскар», губительно сказывается на некоторых произведениях. Представьте, второстепенный персонаж — скажем, почтальон, приносящий телеграмму, — начинает вдруг подчеркнуто «играть». Зрители говорят: «Заметили ли Вы, как тщательно отработана мельчайшая роль?», а я не могу удержаться от мысли, что продюсер потребовал включить сцену с этой ролью, чтобы получить «Оскара» за «лучшую второстепенную роль».
«Кайе»: В прошлом году в Америке у меня сложилось впечатление, что там проявляют мало интереса к европейскому кино, а тот небольшой интерес, который есть, почти полностью удовлетворяется Вашими фильмами, дающими общее представление о Франции. Сознаете ли Вы это и как к этому относитесь?
Трюффо: Нет, нет и нет. Вы не заставите меня сказать, будто я один, единственный, а все остальные — ничтожества! Я принадлежу к тем пятнадцати кинематографистам, чьи фильмы довольно регулярно демонстрируются за пределами Франции, разумеется с субтитрами. Полагаю, в Америке очень хорошо воспринимают Ромера, а также Шаброля. Ни один из моих восемнадцати фильмов, взятый в отдельности, не давал таких сборов, как картины «Мужчина и женщина», «Дзета» или «Кузен и кузина». Дело лишь в определенной регулярности. Но почему важнее быть показанным в Америке, чем в четырех странах Скандинавии, где любят кино? А Япония? А Испания? Повсюду есть любители кино, и если сюжет фильма истинно французский, а не исключительно парижский, его всюду поймут.
Трюффо: Да, я претендую на это. Я не снимал бы фильмы, будь я единственным во Франции, кто этим занимается. Критиковать общество — одно, но считать, будто не принадлежишь к нему, — другое, это сущее ребячество. Очень модная ныне тема ухода из общества хороша для юношей, страдавших в детстве от чрезмерной опеки; в самой этой теме есть доля снобизма. Начиная с «400 ударов» вплоть до «Дикого ребенка» я показываю персонажей, жаждущих «интегрироваться», сделаться составной частью общества. В юности я ухаживал за девушками, которые твердили лозунг Андре Жида «Семьи, я вас ненавижу», что меня смешило, ибо в десяти случаях из десяти родители их были очаровательны, и я бывал счастлив, когда меня приглашали в гости. В серии об Антуане Дуанеле я именно это и показываю.
Честно говоря, обычно признание получают идеи, которые нас устраивают, которые уравновешивают удары судьбы, и от нас самих зависит умение увидеть искренность, скрывающуюся за идеями противоположными, признаваемыми людьми с иными биографиями. Я очень люблю Чаплина именно за то, что он самый великий из всех, кто разрабатывал эту тему.
Люди, у которых берут интервью, порой словно переживают кризис личности, что побуждает их противопоставлять себя окружающим: я не из тех, кто ставит свою камеру на землю… и утверждает: я единственный, кто умеет разбирать фотоэлемент… я — единственный из лауреатов Гонкуровской премии, работавший на заводе… На днях в передаче, которую ведет Жак Шансель, один романист сказал: «Я, несомненно, первый из французов, кто читал Пруста в сверхзвуковом самолете». Что за безумие эта безмерная потребность провозглашать свою уникальность; она происходит, вероятно, от воспитания, от школьного деления по успеваемости, от соперничества между «братьями».
Когда я снимался у Спилберга в окрестностях Бомбея, я впервые в жизни встретил людей, индусов, которые рассматривают себя не как личности, даже не как пшеничные зерна среди прочих зерен, а просто как пыль. Один очень старый индус — случайный статист — спросил, когда же фильм выйдет на экраны, и потом покачал головой, давая понять, как нечто совершенно естественное и не имеющее значения, что он к тому времени умрет.
«Кайе»: Когда рассматриваешь персонажей Ваших последних фильмов, создается впечатление, будто извне они воспринимаются не как люди обособленные; они кажутся равноправными членами общества или способными стать таковыми, но при этом в них есть какая-то потаенная внутренняя отчужденность. То есть, войдя в общество, они совершают поступки все же ненормальные по отношению к нему, у них есть какая-то навязчивая идея, изолирующая их. Это -не отстраненность, а своего рода безумное стремление оказаться вовне.
Трюффо: Мне думается, в своих первых фильмах я старался убеждать. Я показывал так называемые «предосудительные» формы поведения, желая заставить их принять. Затем, не знаю только, в какой момент, меня заинтересовали люди экзальтированные, движимые навязчивой идеей, и по-прежнему я стремился вызвать к ним любовь. По существу, я задаю себе вопрос, не состоит ли противопоставление европейского кино американскому в следующем: для американских кинематографистов режиссура подразумевает усиление сценарной основы, а для европейцев — противоборство с ней. Если эта идея верна в целом или хотя бы отчасти, то у нас режиссура есть занятие неизменно парадоксальное. Даже в литературном плане всякий хороший рассказ парадоксален: персонаж, которого считали таким, оказался сяким, иначе спрашивается, чем рассказ интересен? В чем же тогда
состоит альтернатива для европейского режиссера? Либо вы имеете дело с банальной повседневной историей и в процессе постановки выявляете ее неожиданный аспект, либо у вас есть исключительная история и вы пытаетесь придать ей нормальный вид. Какой бы ни была эта теория, я почти уверен, что некоторые мои друзья ее отвергнут. Например, Александр Астрюк, Робер Энрико или Коста-Гаврас — все они сторонники «акцентирующей» сценарий режиссуры. Стоило бы расспросить по этому поводу Ривета…
Простите, Вы интересовались, что я думаю о долгом молчании, которое мы с журналом «Кайе дю синема» хранили по отношению друг к другу на протяжении двенадцати лет, и Вам могло показаться, будто я не хочу отвечать. После того как в 1968 году Вы опубликовали одну передовицу [… ], несколько номеров подряд я смотрел только фотографии, затем не стало и фотографий, а сами тексты читать было трудно, для меня практически невозможно, поскольку я не знаком с терминологией. Я говорю без малейшей иронии. Я не считаю школы тюрьмами и очень сожалею, что не получил образования, которое позволило бы мне читать, например, «Флобера» Сартра. Словом, я знал, что Вы призываете создавать фильмы нового рода, а мои работы Вам будут подходить все меньше и меньше. К тому же согласно традиции ежемесячные журналы призваны обсуждать фильмы, которыми пренебрегала широкая пресса, а с моими фильмами это случается, откровенно говоря, редко. Мне очень понравилась лента «Гипотеза похищенной картины», которую я пошел посмотреть благодаря тому, что о ней писали в «Кайе». Я уже говорил Вам, что, на мой взгляд, кинематографисты должны по-настоящему сражаться не с критиками и не с кинопромышленностью, а с равнодушием публики. В результате я не знаю, был ли, например, опубликован в «Кайе дю синема» комментарий по поводу «Дикого ребенка», и полагаю, что он едва ли мог быть благосклонным. Я ощутил некоторую горечь и одиночество единственный раз после выхода в свет фильма «Две англичанки», ибо, несмотря на его недостатки, я его любил и чувствовал, что он всеми отвергнут. Но это неважно.
Затем в «Кайе» перешли от политики к семиотике. Я чувствую, что это что-то интересное. Я не провел бы пять месяцев за монтажом «Последнего метро», если бы не знал, что изображение создает определенный эффект и что этот эффект можно усиливать или изменять, так или иначе манипулируя материалом. От распределения света внутри кадра, от неожиданного построения кадра, от соотношения двух планов рождаются законы, которые никогда не были сформулированы, которые обнаруживаешь за монтажным столом, чтобы их тут же забыть и вновь открыть при монтаже следующего фильма. Все это — целина, ибо те, кто ее исследует, не обладают интеллектуальным багажом, чтобы об этом говорить, а те, кто таким багажом обладает, не имеют опыта работы за монтажным столом.
И, наконец, мне приходилось ругать «Кайе дю синема» потому, что я знал, какой известностью пользовался во всем мире Андре Базен, и говорил себе: «Сознают ли те, кто все это пишет, что никто не сможет перевести «Кайе» на иностранный язык?» Вы можете мне возразить, что в каждой стране должно найтись несколько человек, способных понять ваш журнал…
«К а й е»: В прошлом году в Америке я вел курс семиотики и столкнулся со своеобразной, очень серьезной, очень американской карикатурой на то, как мы думали и писали в 1970— 1975 годы; мне было трудно говорить с ними просто и без обиняков. Я считаю, Вы отвечаете совершенно по-американски, говоря: истолкование моих фильмов меня не интересует.
Трюффо: Истолкование моих фильмов интересует меня позднее, когда я смотрю на них как бы со стороны. Например, завершив озвучание, я смотрю фильм целиком несколько отстраненным взглядом, и он мне кажется странным; порой я спрашиваю себя, что подумал бы о нем психоаналитик, но в глубине души я предпочитаю не знать этого. Самый чудовищный пример — финал картины «400 ударов»; если бы я знал, что ребенок, выбегающий на берег моря, будет истолковываться в связи с образом матери (Французское «la mer» — «море» и «la mère» — «мать» произносятся одинаково. — Прим. перев.), уверяю Вас, я бы снял его иначе, я нашел бы другой путь. Автор, пишущий эссе, никогда не бывает слишком интеллектуален, а автор рассказов ограничен определенными рамками. Я полагаю, работая в области художественного кино, лучше оставаться наивным.
«К а й е»: Что же Вас интересует в статьях, посвященных Вашим фильмам? Есть три возможные позиции: либо чисто рекламная точка зрения, то есть «я доволен, что о моем фильме говорят хорошо» или «я недоволен, что о нем говорят плохо»; либо надежда прочитать разъяснение того, что Вы сами знаете досконально; либо, наконец, желание увидеть, как выявляется то, что Вы в самом себе даже не подозревали…
Трюффо: Если подходить к фильму как к своему детищу, он, несомненно, нуждается в ласке, то есть в благосклонных критических статьях, однако критика представляет собой лишь часть целого комплекса явлений, сопровождающего выход фильма. В идеальном случае необходимо хорошее название, хорошая афиша, великолепный рекламный ролик, единодушие критики и пасмурная погода в субботнее утро, чтобы удержать зрителей в городе. Если вдобавок и фильм хорош, то все это может помочь делу.
Говоря серьезно, мне случалось признавать, что отрицательная критическая статья Филиппа Коллена или Полины Кель вызывает более глубокие мысли, нежели хвалебная критика Икса или Игрека. В начале пути, быть может, нуждаешься в том, чтобы тебя оценили, но с годами предпочитаешь, чтобы тебя любили. Что касается отрицательных статей, то я усматриваю большую разницу между «Увы, это плохо» или «Черт побери, это плохо», она очень хорошо прочитывается между строк…
Существует прекрасный (хотя и труднодоступный) способ сохранить душевное спокойствие и не нервничать в момент выхода фильма на экран; надо снимать две картины подряд и выпускать их с интервалом в четыре месяца. В тот момент, когда я выпустил «Историю Адели Г. «, завершились съемки и картины «Карманные деньги», и между обоими фильмами существовал такой контраст, что я не волновался; один из них — кромешная ночь, другой — сияние дня, один — воплощение одиночества, другой — единодушия, один — выражение страдания, другой — оптимизма, в одном чувствуется напряжение, другой — сделан с улыбкой. [… ]
«К а й е»: Возвращаясь к тому, что Вы говорили о мемуарах актеров и актрис, объясните, почему, в частности, Вам представляется наиболее интересным период оккупации.
Трюффо: Действительно, всякий раз, открывая современную книгу мемуаров, я обращаюсь сразу же к главе о периоде оккупации, ибо она дает мне представление об авторе, его искренности, его складе ума. Из актерских автобиографий наиболее честная книга Жана Маре. Есть и другие интересные книги, но в них часто повторяются одни и те же неправдоподобные вещи. Директора и директрисы театров всегда утверждают: «Немецкие офицеры бывали во всех театрах, кроме моего». В действительности немцы ходили во все театры, отдавая предпочтение «Комеди Франсез». На протяжении нескольких лет я отталкивал мысль о фильме из времен оккупации, потому что робел от ленты Марселя Офюльса «Печаль и жалость». Вот, на мой взгляд, единственный фильм с прустовским ароматом, возникающим благодаря убедительному сопоставлению различных персонажей в различные периоды их жизни, равновесию мыслей и ощущений [… ]. В 1968 году фильм «Печаль и жалость» сопоставлял прошлое с настоящим, сегодня фильм в целом поднимает пласты прошлого, и он дает, оказывается, столь же ценные сведения о состоянии умов в 1968 году, как и о периоде оккупации.
Поэтому мне потребовалось некоторое время, чтобы взяться за более скромную задачу, хронику жизни одного парижского театра с 1942 по 1944 год. «Последнее метро» — не тот откровенный фильм об оккупации, который я мог бы сделать и, может быть, сделаю когда-нибудь; это была бы история маленького мальчика, который обнаруживает обман взрослых. Мне было восемь лет в начале войны, двенадцать -в конце ее, и в промежутке я открыл для себя мир, точное отражение которого я нашел только в «Вороне» Клузо, мир взрослых, раскрывшийся передо мной в юности как средоточие гнилости и безнаказанности.
«Кайе»: В то же время, если рассматривать в совокупности все Ваше творчество, не похоже, чтобы Вы склонялись к тому же выводу, к которому приходит Хичкок в фильме «Тень сомнения»: весь мир — свинарник.
Трюффо: Нет, нет, я не пуританин. Хичкок отошел от мира и взглянул на него с необычной строгостью. Когда я говорю, что он исповедовал кино подобно религии, это не интерпретация, а сущая правда. В нашей книге Хичкок сам несколько раз употребил выражение: «Когда тяжелые двери киностудии закрылись за мной… » Согласен с Вами, Хичкок сам говорит устами Джозефа Коттена во многих местах «Тени сомнения». Хичкок, такой, каким он был в жизни, представляется мне и в фильме «Дурная слава», когда Клод
Рейнс среди ночи стучится в дверь спальни своей матери и говорит ей, как провинившийся мальчишка: «Матушка, я женился на американской шпионке». Хичкок вновь проглядывает в сцене фильма «Я исповедуюсь», где ризничий говорит своей жене Альме, изображенной сущим ангелом: «Мы — иностранцы, мы нашли в этой стране работу, постараемся оставаться незаметными… » Способный к известной жестокости в своих высказываниях Хичкок видится мне и за образом судьи Чарлза Лаутона, который, вернувшись домой, садится обедать с женой. Жена умоляет его о снисхождении к Алиде Валли, убийце, совершившей прелюбодеяние: «Нет, эта женщина, Парадайн, должна быть повешена!» — отвечает он.
Иными словами, меня интересует не столько ритуальное появление Хичкока в мимолетных кадрах — «виньетках», сколько те моменты, где, на мой взгляд, проскальзывают его личные эмоции, его сдержанная жестокость, единственное в своем роде смешение любовных сцен со сценами убийства. Интересные режиссеры прячутся за разными персонажами. Что касается Хичкока, то, я чувствую, он нарочно заставляет зрителя отождествлять себя с соблазнительным молодым героем, тогда как сам он, Хичкок, никогда почти не отождествлял себя с героем, а чаще всего со вторым персонажем, с человеком поруганным, Клодом Рейнсом, Джеймсом Мейсоном, с ужасающим человеком Чарлзом Лаутоном, с отвергнутым человеком, с тем, кто не имеет права любить, или, наконец, с человеком, который наблюдает, не принимая участия. И ему приходилось работать, чтобы вести публику за собой; он знал правила игры, знал, что публика согласна отождествлять себя лишь со своим несколько улучшенным изображением, поэтому он налагал на себя тяжелейшие ограничения, и, мне кажется, именно из такого самопринуждения рождаются многие прекрасные моменты его работы. Ему необходимо было неотступно следовать своему девизу: «Чем больше удался злодей, тем удачнее фильм».
«К а й е»: Нет ли недоразумения или противоречия в Ваших фильмах, которые публика и критики склонны считать более оптимистичными, чем они есть? Нам, однако, кажется, что в Ваших фильмах всегда сквозит мысль о смерти; это по крайней мере весьма явственно ощущается в последних картинах.
Трюффо: Нет, я оптимист, во всяком случае, я люблю жизнь, что, вероятно, заметно в моих фильмах и что должно раздражать тех, кто не любит жизнь, а еще более тех, кто притворяется, будто не любит ее. Среди них Сартр — это единственное, что смущает меня в Сартре, который был так честен; он давал повод думать, будто не любит жизнь, тогда как все знавшие его говорят как раз обратное. В своем последнем интервью, месяца за два до смерти, он сказал примерно так: «Мне осталось прожить пять лет, думаю, даже десять… » В том же интервью он впервые говорил о надежде…
Словом, я часто приглашаю друзей посмотреть фильм «Джонни дали винтовку», и, когда они выходят после просмотра бледные и удрученные, я говорю им: «Как, Вы не почувствовали, насколько этот фильм пробуждает энтузиазм?»
На мой взгляд, это не просто антимилитаристская лента, ее антивоенная направленность в основном проявляется в финале, в кадрах заключительных титров. У Джонни нет ни рук, ни ног, ни лица, только грудь, голова, живот, нижняя часть тела; таким мог бы быть человек, выживший после чудовищной автомобильной катастрофы, происшедшей на шоссе в уик-энд. Следовательно, речь идет о чрезвычайном случае выживания. По мнению врачей, у Джонни сохранились лишь непроизвольные двигательные реакции. Однако сознание у него существует, оно позволяет ему оценивать благоприятные или неблагоприятные изменения в условиях его содержания в больнице. Он реагирует на луч солнца, дошедший до него, ласка сиделки доставляет ему удовольствие, и он находит способ выразить это своеобразной азбукой морзе, шевеля маской, заменяющей ему лицо. Конечно, он — человек пропащий, но меня восхищает это стремление к общению любой ценой. Мне бы хотелось сделать такой фильм самому, ибо, в конце концов, речь здесь идет о самом главном. Очень мало кинолент, в которых рассказывалось бы о теле человека, мало фильмов, которые говорили бы, как важно быть здоровым, как драгоценна жизнь.
У меня всегда вызывает недоумение образ режиссера в смокинге, представляющего на Каннском фестивале фильм, герой которого вонзает себе нож в живот за пятнадцать секунд до слова «конец». Когда я снимаю фильм с Жан-Пьером Лео, я говорю ему, как только он появляется утром: «Ну что, сегодня — смелей, смелей, а?» В 50-е годы был хороший чехословацкий мультфильм «Человек с пружинкой»… В своих «Мемуарах» Чаплин замечательно резюмирует свою работу: «Надо поставить персонаж в трудное положение и вызволить его».
«Кайе»: «Вызволить» означает, по-Вашему, закончить хэппи-эндом?
Трюффо: По-моему, последняя часть фильма «История Адели Г. » представляет собой счастливый конец: Адель проходит мимо лейтенанта Пэнсона, не узнавая его, следовательно, она избавилась от любви, груз которой стал невыносимым. Я полагаю, лучшими, самыми спокойными в жизни Адели были последние сорок лет, проведенные ею в психиатрической больнице в Сен-Мадэ. Герой картины «Зеленая комната» Жюльен Давен любит своих покойников безо всякой печали; он проявляет волнение, подобное чувствам библиофила или филателиста. И здесь смерть означает счастливый конец: в часовне оставалось свободное место для одной свечи. Давен понимает, что это должна быть его свеча!
Рабочие на съемочной площадке прозвали фильм «Человек, влюбленный в пламя свечи».
Совершенно очевидно, что эти фильмы разработаны как камерная музыка, в них есть элегичность, они стремятся к визуальному единству, они направлены против идеи разнообразия.
«К а й е»: Как Вы понимаете «разнообразие»?
Трюффо: Кино всегда жило идеей разнообразия. После любовной сцены — погоня, после погони — дуэль, падение в воду, нашествие слонов, фейерверк. Чтобы вызвать у зрителя физическое потрясение, его надо увлекать в разные места; эффектные номера следовали один за другим вплоть до прихода звука в кино и даже после этого… Можно также говорить о разнообразии стилей, разнообразии мест, персонажей, ситуаций. Во Франции первым стал бороться с этим Брессон, который был даже против разнообразия освещения. «Приговоренный к смерти бежал» выдержан весь, с начала до конца, в сером цвете, подобно тому как фильм «Слово» — весь в белом. Брессон сказал однажды: «Я обнажаю нити».
В некоторых фильмах кажется, будто сценарист и режиссер произвольно решили заставить нас переходить из одного места в другое. Ссора четы начинается на кухне, продолжается на лестнице, затем на автостоянке и в машине… Почему бы не снять все на кухне? Или дело в недоверии к сценарию? К диалогу? К актерам? К постановке? Я считаю, что единству эмоциональному должно соответствовать визуальное единство.
«Кайе»: Именно поэтому Вы любите и продолжаете
любить Бергмана?
Трюффо: Да, Бергмана, а также Брессона и Паньоля. Можно же любить детей, не согласных друг с другом, почему бы нет? Те, кто умаляет значение Бергмана — словно случайно с тех пор, как он пользуется успехом, — должны были бы посмотреть, как он добивается молчания публики, снимая долгие минуты безмолвия. Обратили ли Вы внимание на то, что фильмы Бергмана и Брессона идут на телевидении успешнее фильмов Хичкока? Хичкоку нужен гул публики, заполнившей зал. И, наконец, поскольку телевидение ежевечерне предлагает нам нагромождение изображений и звуков, смешение всех стилей, я считаю, что по контрасту с этим в наших интересах соблюдать в кинофильмах единство и простоту.
«К а й е»: Не так давно Полянский говорил нам, что, для того чтобы выстоять в борьбе с телевидением, фильмы надо «делать богаче, крупнее, больше, чем в жизни, делать то, чего телевидение не может дать, — добиваться большей зрелищности». Вы же предлагаете иной прием борьбы с телевидением. Ваше определение совпадает с мнением Ривета, который сказал о фильмах Росселлини, таких, как «Человеческий голос», что они сами по себе и есть телевидение, своего рода микроскоп. Вы усматриваете средство борьбы с телевидением в том, что иные считали именно свойством телевидения: единство, сжатость, уплотненность. Видели ли Вы интересный в этом отношении последний фильм Сэмюэля Фуллера? Чувствуется, что он вынужден перемещать свой отряд солдат с места на место, но камера сосредоточена в основном на самой группе людей.
Трюффо: Я не согласен с Полянским; по-моему, лучшие из его фильмов именно те, где действие разыгрывается в одном месте: «Нож в воде», «Ребенок Розмари»,
«Что».
Мне понравился фильм «Большой краснокожий», но более сильное воспоминание сохранилось от картины «Стальной шлем», где Фуллер создал целую драму, используя шлем американского пехотинца и кучку песка. Творить, почти не располагая средствами, не значит создавать произведение искусства, но это способ, дающий иногда хорошие результаты, например фильмы от «Похитителей велосипедов» вплоть до «Мадам де… «, включая и такие фильмы, как «Куколка» или «Спасательная шлюпка». Вся история кино — долгая схватка с длительностью фильма, или, если угодно, борьба между вместилищем и содержимым. Вот уже пятьдесят лет кинематографисты упражняются в том, чтобы втиснуть один литр сценария в бутылку-фильм объемом в три четверти литра.
«Кайе»: Будучи киноманом, предпочитаете ли Вы обращать свой взгляд в сторону старого кино, кино классического, или Вы стоите на позиции человека, который стремится выискивать новые таланты, ревностно следя за всем новым, происходящим в сегодняшней жизни?
Трюффо: Конечно, влияние старых кинолент сказывается на вдохновении. На протяжении уже двадцати лет я нахожусь в основном под впечатлением фильмов, снятых чуть ли не кинолюбителями вне Голливуда, таких, как «Убийцы медового месяца», «Джонни дали винтовку», «Билли Бадд», «Пальцы»; традиционные американские фильмы кажутся по сравнению с ними более слабыми, менее изобретательными. Ну как снять «триллер», не то чтобы превосходящий, а хотя бы равный «Большому сну», — это невозможно.
Картина «Стреляйте в пианиста» — моя попытка сделать фильм, который выглядел бы не французским и не американским; и все началось с выбора на роли Азнавура и его армянских собратьев. Я мало знаком с творчеством Фасбиндера, но мне показалось, будто в «Замужестве Марии Браун» режиссер преодолел опасность сделать фильм киномана. И хотя здесь можно усмотреть множество перекрещивающихся влияний, от «Презрения» Годара до Дугласа Сёрка, включая Брехта и Ведекинда, перед нами настоящая и романтическая история, разного рода конфликты между персонажами, представленными с истинным благородством. Другое достоинство фильма, сближающее его с фильмом Висконти «Туманные звезды Большой Медведицы» и даже с Мурнау, — равенство во взгляде на мужчин и женщин, — явление весьма редкое. Фасбиндер любит мужчин наравне с женщинами, для него не существует дискриминации тел; обнаженность солдата-негра, явно полнотелого, но не тучного, равнозначна красоте нагой колдуньи в фильме «День гнева».
«Кайе»: Один из аспектов Вашего творчества состоит в том, что создается впечатление, будто прежде Ваше кино опиралось на Вашу деятельность критика, киномана, но по мере продвижения вперед кажется, что все это отпало, словно первая ступень ракеты, и ныне мы имеем дело с машиной, существующей автономно, даже с формальной точки зрения.
Трюффо: Ну вот и вырвалось слово творчество. Действительно, я не сталкиваюсь с проблемой поиска сюжетов. У меня больше замыслов, нежели времени, чтобы делать фильмы. Мне по-прежнему нечего сказать, но есть еще что показать, например матерей, включая мою собственную. Вначале меня привлекали дети, потому что я настрадался, будучи единственным ребенком; мне очень полюбились пятеро малышей. В ту пору я хотел сделать в манере «Пайзы» фильм из пяти новелл, посвященный детству; но в конечном счете, не будучи удовлетворен «Шпанятами», предпочел расширить историю «Бегство Антуана» и сделать из нее «400 ударов». Спустя пятнадцать лет я соединил и перемешал оставшиеся истории и снял «Карманные деньги». Любовь к детям была для меня спасительной, она позволила избежать опасности подражания тем режиссерам, которыми я восхищался…
Но, помимо детей, есть еще женщины и, наконец, любовь, которая появляется в картине «Стреляйте в пианиста». После «Жюля и Джима» каждый из моих фильмов предпринимался с мыслью оспорить или дополнить одну из предыдущих работ; это привело к созданию циклов и групп и происходило не всегда сознательно с моей стороны, за исключением, разумеется, того, что касается Антуана Дуанеля. «Две англичанки» представляют собой ответ «Жюлю и Джиму», который мне казался недостаточно живым. «Зеленая комната» продолжает «Историю Адели Г. » — по-моему, недостаточно животрепещущий фильм. Стремление продолжать работу возникает из неудовлетворенности, из уверенности, что потерпел неудачу. Словом, все абсолютно относительно.
Наступает момент, после трех или четырех фильмов, когда влияния уже не играют большой роли, за исключением очень давних, предшествовавших первым шагам. Собственный опыт приводит нас к установлению совершенно сумасбродных законов, не имеющих никакой ценности для других; однако их соблюдение помогает и одновременно сдерживает, тем более что многие так и остаются несформулированными. Работаем мы с Сюзанной Шифман над сценарием, придумываем сцену, ведем диалог, проигрывая обе роли, потом Сюзанна говорит: «Я сейчас напечатаю», и я вижу, как она пишет: «Лестничная площадка. Интерьер. День».
Я спрашиваю: «Откуда ты знаешь, что все происходит на лестничной площадке?» Она отвечает: «Ты всегда снимаешь такого рода сцены на лестничной площадке».
В конечном счете то, что делаешь, есть отражение себя самого, менее удачное, если перестараешься, более привлекательное — если повезет. Я бунтовал против Базена, когда он говорил: «В таком-то фильме майонез не получился». Я возражал ему: «В конце концов, фильм — не майонез!» Сегодня я думаю так же, как Базен.
«Кайе»: А если «не получается», от чего это зависит? Верите ли Вы в удачу?
Трюффо: Я думаю, первостепенное значение имеет распределение ролей. Замените Марлона Брандо и Софию Лорен двумя подходящими актерами, и «Графиня из Гонконга» окажется шедевром. Актер, даже очень хороший, не всегда может скрыть свое социальное лицо, особенно если предыдущие роли закрепили его в этом положении. Марлон Брандо — актер антисоциальный, типичный представитель богемы, сторонящийся общества, дикарь по натуре — он не может играть посла, который будет обесчещен, если на корабле в его каюте обнаружат спрятанную шлюху. Читая жизнь Чаплина, рассказанную его старшим сыном Чарлзом Чаплином-младшим, вы видите, что история эта была написана примерно в 1936 году и предназначалась для Полет Годцар и Гарри Купера, идеальных исполнителей. [… ]
«Кайе»: Представители «новой волны» составили первое поколение кинематографистов-киноманов, которым приходилось прежде писать о фильмах, которые посмотрели много кинолент и ссылались на своих предшественников как на образцы. Прошло около двадцати лет, было создано еще больше фильмов, и кино утвердило свою принадлежность к миру культуры. Все просмотреть уже трудно, поэтому возникают одновременно два феномена: культура становится все богаче, но она все менее и менее жизненна. Зачастую для кинематографистов нашего поколения, от 30 до 35 лет, увиденные фильмы оказываются грузом, слишком тяжело давящим. Не считаете ли Вы, что из-за этого культурного груза и убеждения, что золотой век остался позади, может утратиться то несколько наивное отношение к профессии кинематографиста, которое и Вам самому уже почти не свойственно?
Трюффо: И вправду, золотой век остался позади. С каждым десятилетием становится все труднее снимать. Почему самые великие режиссеры — те, кто начинал между 1920 и 1930 годами? Каким бы ни было наше мнение о «Графине из Гонконга», «Эшнапурском тигре», «Пришпиленном капрале», «Тихом человеке», «Красной линии 7000″, когда мы смотрим эти фильмы, мы абсолютно уверены, что ни один из них не мог бы быть снят (именно так, как он снят) кем-либо из режиссеров, дебютировавших после 1930 года. Феномен следовало бы проанализировать, но это нелегко. Можно подумать, будто все эти режиссеры, начинавшие за десять-пятнадцать лет до появления в кино звука, сумели в период немого кино разрешить проблемы настолько трудные, что их уже ничто не могло испугать; они были уверены, что всегда смогут твердо стоять на ногах. В фильмах Форда и Хоукса поражает отсутствие сомнений и тревоги.
О режиссерах немого периода кино мало сказать, что они умели вести рассказ чисто изобразительными средствами; следовало бы указать на все те случаи, когда, столкнувшись с какой-либо проблемой, они находили возможность разрешить ее самым радикальным образом.
Любой режиссер звукового кино, доведись ему снимать «Эшнапурского тигра», сказал бы себе: «Хорошо, я выйду из положения, используя крупные планы и движения камеры, чтобы не казаться смешным». А Фриц Ланг, полностью приемля наивность сценария, строит сцены на общих планах, и результат никогда не бывает смешон. В «Графине из Гонконга» поражает устройство декораций, позволяющее не потерять ни одной лишней секунды, а также очень дробное фронтальное построение фильма, как в ранних лентах Чаплина 1913 года. Перемещения аппарата при съемке неподвижных планов совершаются по горизонтали и вертикали, но никогда не по диагонали, что гениально по своей простоте, точности и динамизму. В работе режиссеров, начинавших в период немого кино, есть некий решающий аспект, непоправимо утраченный впоследствии.
«К а й е»: Несмотря на отсутствие полемичности в Ваших работах последних лет, Вы играете важную роль в киноведении. Вы поддерживаете немеркнущую память о кинематографистах, которые произвели на Вас наиболее сильное впечатление, таких, как Хичкок, Ренуар, а в последнее время Любич. Как это перекликается с Вашим творчеством? Нет ли здесь связи с «Зеленой комнатой»?
Трюффо: Да, конечно. Во время войны я покупал возле лицея Жюль-Ферри открытки с изображениями Мюссе, Виньи, Шатобриана, Гюго, Бальзака и в зависимости от того, что читал, пришпиливал тот или иной портрет в стенном книжном шкафчике. Сартр говорил, что никем не восхищается, а только уважает. Саша Гитри охотно проповедовал культ людей, ушедших из жизни, но при жизни вызывавших восхищение. Меня искренне огорчает, что романы Жана Ренуара имеют незначительный успех. Жаль, что столько юношей, жаждущих снимать фильмы, не читали воспоминаний Штернберга, Капры. Я часто думаю, что кинолюбители — не столь уж безупречные зрители по сравнению с прочими людьми. Они интересуются тем или иным кинематографистом лишь потому, что его творчество злободневно. Они не свободны от снобизма, прихотей и неблагодарности. Посмотрев пять раз «Гражданина Кейна» из-за его увлекательности и лишь один раз «Великолепных Амберсонов» из-за их меланхоличности, киноман руководствуется теми же критериями, что и обычный зритель. В конечном счете я предпочитаю обычного зрителя, который не интересуется именем режиссера, а принимает решение в зависимости от названия фильма, от главных исполнителей и привлекательности рекламных фото, выставленных перед кинотеатром.
«К а й е»: От будущих кинематографистов, о которых Вы говорите, часто можно слышать: «Хочу быть автором», тогда как прежде говорили: «Хочу сделать кино своей профессией».
Трюффо: Что значит «Хочу быть автором»? Автором, который не читает и не пишет? Слова ничего больше не значат, во всяком случае, некоторые. А иные даже вредны. Слово «коммерческий» почти всегда влечет за собой пустую дискуссию: ведь в истории кино самым коммерческим режиссером был и самый великий — Чарли Чаплин. Выдуманное тридцать лет назад выражение «работа с актерами» утратило смысл. По-моему, проще сказать о фильме, что он хорошо или плохо сыгран. Выражение «авторское кино» тоже теперь бессмысленно. Созданный журналом «Кайе дю синема», этот термин искажается, когда его пускает в ход пресса, не имеющая позиции.
Я не усматриваю никакой несовместимости между словами «автор» и «ремесло». Автор должен иметь возможность писать не только для себя самого, но и для других. Не знаю, почитают ли в журнале «Кайе дю синема» Бертрана Блие, но позвольте сказать Вам, что, на мой взгляд, в его творчестве идеально. Лет пятнадцать назад он снял шпионский фильм, который не имел предполагаемого успеха. Тогда он написал сценарий одного из лучших фильмов Логнера «Пусть играет, это вальс». Поскольку этого оказалось недостаточно, чтобы вернуться к режиссуре, он написал роман «Вальсирующие», который стал бестселлером. Когда продюсеры захотели купить права на экранизацию его романа, Блие сказал: «Простите, но я — режиссер и хочу сам сделать фильм». Продолжение вам известно. Блие понял, что не должен выступать просителем, а должен сам что-то предложить. В противовес такому поведению находятся люди, которые говорят: «Я не напишу ни строчки, пока не получу чека». Они полагают, что все еще живут в предвоенные годы [… ].
«Кайе»: Можно ли сказать, что в Ваших фильмах есть автобиографический пласт?
Трюффо: Пласт не автобиографический, а в значительной мере биографический. Всякий раз, когда ощущается необходимость, тут же возникает воспоминание, которое подталкивает развитие сцены: «Помню одного типа, который… » или «Однажды на улице я видел… » В картине ‘Такая красотка, как я» есть сцена, где Шарль Деннер ведет Бернадет Лафон к адвокату. Он остается ждать внизу на улице, и тут, чтобы не останавливать сцену, надо было найти что-то, созвучное характеру персонажа Шарля Деннера, католика и пуританина, занимающегося уничтожением крыс. Внезапно в памяти всплыло одно событие, происшедшее в 1945 году. Однажды, возвращаясь из школы и проходя через двор вокзала Сен-Лазар, я увидел кюре, на чем свет стоит ругавшего киоскершу, которая вывесила для обозрения первый послевоенный порнографический журнал «Париж—Голливуд». Гнев кюре не
знал границ, лицо его побагровело; некоторые из прохожих поддерживали кюре, но большинство хохотали. Я и воссоздал эту сцену, она очень отвечала характеру Деннера: «И Вы считаете это нормальным, мадам? А я вот нормальным это не считаю!»
К счастью, кладезь воспоминаний неисчерпаем. Они возникают в нужный момент, когда это необходимо. Оказывается, с годами воспоминаний всплывает все больше, и они все более связаны с временами юности. С этой точки зрения замечателен последний роман Ренуара «Женевьева». Ренуар уже почти не мог говорить; чтобы понять его, приходилось наклоняться к нему поближе, и тем не менее он ежедневно по два часа диктовал роман, изобилующий точными подробностями жизни в Каннах в начале века.
Разумеется, прежде чем приняться за оригинальный сценарий, переживаешь несколько тревожных недель… пресловутый страх перед пресловутой белой страницей. Велико искушение взять и экранизировать книгу. Как раз перед началом работы над «Последним метро» мне предложили интересный роман, выпущенный «Эдисьон дю сёй», где речь идет о двух современных актерах, играющих в авангардистских пьесах. Практически это был готовый сценарий, которым наверняка воспользуются кинематографисты; впору было сразу приниматься за работу. Я колебался, но сказал себе, что потом пожалею, если снова упущу возможность снять фильм про оккупацию; и мы с Сюзанной окунулись в работу.
Американцы говорят о сценариях совершенно иначе, чем мы; меня всегда поражает их подход к делу. Во Франции журналист спрашивает режиссера: «О чем Ваш фильм?», и автор принимается излагать сюжет так, будто этот сюжет рассказывается впервые в истории кино. В Америке все обстоит по-другому. Там склонны к абстракции, к пониманию концепции и отлично знают, что все драматические ситуации уже давно использованы. Поэтому Вас спрашивают: «Какой фильм Вы хотите снять?» Вы говорите название. Они продолжают: «Кто — мужчина, кто — женщина?» Для них совершенно очевидно, что все фильмы рассказывают историю мужчины и женщины, которые встречаются, ссорятся, потом нравятся друг другу и в конце женятся. От фильма к фильму меняется только фон. Поэтому, когда Вы сказали название и назвали имена обоих актеров, Вас спрашивают: «Каков фон?» Фоном может быть участок нефтедобычи, среда автомобильных гонщиков, военный лагерь в Корее. Готово, они уже все знают. Они давно свыклись с мыслью, что все фильмы рассказывают одну и ту же историю. Американские критики усвоили такой подход. Пойдет ли речь о фильме «Аэропорт», или «Убийство в Восточном экспрессе», или «Ад в поднебесье», они скажут: «Ах, да, «носитель» типа «Гранд-отель»», обозначая словом «носитель» сценарий-предлог, а названием «Гранд-отель» указывая архетип фильмов такого рода, где в одном месте оказываются одновременно беременная женщина, беглый воришка, банкир, смертельно больной раком, робкая девушка-подросток, трус, который всех спасает, и т. п. — то есть предсказуемый набор типажей. Мне весьма по душе такая манера рассматривать теорию предмета до возникновения его самого. Все складывается так, словно мы здесь, во Франции, очень наивны, хотя считаем себя утонченными.
«К а й е»: За исключением Фуллера, у которого сквозит мысль: «Я — первый, кто это рассказывает… »
Трюффо: У Фуллера — может быть, но не у Хичкока. У нас во Франции был Жан-Пьер Мельвиль, который, снимая гангстерский фильм, пытался убедить нас в том, что перед нами греческая трагедия. Мельвиль был большим киноманом, но интересы его были несколько ограничены: его познания проявлялись, в основном когда речь заходила о револьверах. Хичкок был скромнее, представляя свои фильмы; его концепции создавались со вкусом. В книге о нем он, помнится, говорит в ответ на мой вопрос о фильме «Завороженный»: «Как обычно, это история охоты на человека, только женщина здесь — специалистка по психоанализу». О фильме «Марни» перед самым началом съемок он говорил: «Что ж, снова будут Золушка и Принц», что сближало фильм с «Ребеккой».
«Кайе»: Какой станет для Вас Америка теперь, после смерти Ренуара и Хичкока?
Трюффо: Все будет иным. Я регулярно уезжал в Америку спустя сорок восемь часов после окончания съемок очередного фильма, чтобы отдохнуть и навестить Жана Ренуара. Он уже был не в состоянии вернуться во Францию, и, хотя его окружали друзья, ему хотелось поговорить по-французски, услышать парижские новости. Он любил Ривета. Физически Ренуар очень страдал, но работал каждый день. Раньше он не интересовался своими работами прежних лет, однако его жена Дидо собрала все его фильмы на узкой пленке, и он с удовольствием пересматривал их после обеда, порой высказывая очень суровые суждения о своих картинах, но всегда восхищался Мишелем Симоном или Жаном Габеном. В конечном счете он предпочитал смотреть и пересматривать «Французский канкан» по разным причинам, о которых легко догадаться. Он никогда не произносил язвительных или горьких слов, не говорил о смерти и до самого конца сохранил стремление жить.
Возвращаясь в Париж в 1974 году, в первый раз после долгого пребывания в Америке, я расстался с Ренуаром, думая, что больше не увижусь с ним; однако он продержался еще пять лет и опубликовал четыре книги. По сей день беспрерывно находят замыслы, рукописи, аннотации, и становится очевидным, что, сняв тридцать пять фильмов, он подготовил их около сотни. Хотя редко удается дожить до 84 лет, смерть Жана Ренуара все же истинно печальна — он обладал одним качеством, которое всех поражало: в нем редкостно сочетались гениальность и доброта [… ]
«К а й е»: Что Вы скажете об отношении режиссера к актерам?
Трюффо: Годар всегда дает актерам хорошие роли и показывает их в выигрышном свете, поэтому у него никогда не будет серьезных затруднений в создании фильмов; жаловаться ему не приходится. Впрочем, по-моему, никому из режиссеров сетовать нет причин, за исключением Брессона, который как раз никогда и не жалуется! Почему именно Брессона? Потому что он едва ли не единственный, кто работает, оставаясь в стороне от системы кинозвезд, избегая привлекать профессиональных исполнителей. Вот ему и приходится лавировать между поддержкой меценатов и дотациями, и в этом отношении он почти одинок, за исключением еще Тати, который сам себе кинозвезда.
От Роми Шнайдер до Изабель Юппер, включая Катрин Де-нёв, от Алена Делона до Жака Дютронка, включая Деваэра, Нуаре, Серро, Депардье, Вентуру, во Франции есть не менее двадцати актеров, которые все читают и ужасаются слабости предлагаемых им сценариев.
«Кайе»: Мы знаем пример Феррери, делавшего на протяжении многих лет фильмы, направленные против всех и каждого; но у него была поддержка таких актеров, как Мастроянни или Пикколи, которые обожали его и снимались у него почти бесплатно.
Трюффо: Еще до него можно привести в пример Жана Кокто, снявшего четыре прекрасных фильма благодаря Жану Маре. Можно также сказать, что Жан Маре снялся в четырех прекрасных фильмах благодаря Жану Кокто. Долг платежом красен. Есть, может быть, известный эгоизм у тех режиссеров, которые никогда не считались с тем, что и фильм должен помогать своим актерам; ведь если посмотреть со стороны на карьеру Жана Ренуара, то видно, что свою жизнь он посвятил тому, чтобы помочь актерам найти себя.
«Кайе»: А каково актерам? Не считаете ли Вы, что им стало труднее, чем прежде?
Трюффо: В связи с ними скажу — меня огорчает одно: чем умнее становятся фильмы, тем слабее роли. Когда фильмы были наивны, актерам доставались лучшие роли. Представьте себе положение Ремю, будь он жив сейчас… Я поражаюсь, когда вижу, как театральные критики нападают на «бульварный театр» за его условность, а ведь никто не осмеливается попрекать Жана Пуаре за его пьесу «Клетка для сумасшедших», ибо все чувствуют, что в данном случае один актер написал для другого актера — Мишеля Серро, «которым он восхищается, — самую сильную театральную роль, какую только можно сыграть.
Сегодня некоторые фильмы требуют такой правды, такой достоверности, что в них лучше играть неизвестным исполнителям, особенно если играть надо мало. Брессоновская нейтральность послужила уроком, но, когда известных актеров просят подражать неприметности «образцов» Брессона, тут, на мой взгляд, возникает некоторая путаница. У актеров есть все основания для недоверия. Когда режиссер приходит к ним с предложением сняться в фильме, они задаются вопросом, подходят ли они на роль или их приглашают сниматься, чтобы облегчить финансирование фильма. Очень часто авангардистское кино приглашает знаменитых актеров для привлечения публики, используя их при этом как простых статистов. В итоге подобное предприятие вредит всем: постановке, которая останется непонятой, актерам, которым нечего играть, и публике, которая чувствует себя неудовлетворенной. Чаще это случается в театре, чем в кино. Но и здесь проблема состоит в нахождении равновесия. Не будь Жана Маре, Кокто не написал бы «Ужасных родителей», а ведь это, быть может, бессмертная пьеса… По-моему, самые большие актеры — те, кто способен сыграть роли великих людей, как, например, Генри Фонда, Монти Клифт. Другие могут играть лишь вымышленных мифологических персонажей, как Берт Ланкастер, который великолепен в фильме «Веракрус» и неадекватен своей роли в «Птицелове из Алькатраса».
Для меня остается тайной чрезмерное доверие, питаемое публикой к толстым актерам в ущерб худым. Если актер дороден, как Ремю, Арри Бор, Нуаре, Бернар Блие, публика никогда не усомнится в нем, будет питать к нему почтение, словно вес человека побуждает простить легковесность актерских функций. Зритель не любит, чтобы актер проявлял страх; я же считаю страх актера благородным, подчас порождающим нечто трепетное.
Словом, пусть я повторяюсь, но, по-моему, фильм должен идти на пользу актерам, участвующим в нем. Когда меня постигает неудача, больше всего меня огорчает то, что я поставил актеров в худшее положение, чем они были прежде. [… ]
«Кайе»: В какой момент Вам захотелось самому стать актером?
Трюффо: Я не считаю себя актером, я просто случайный исполнитель. Когда я снимал в Лондоне «451о по Фаренгейту», у актеров были дублеры, занимавшие их места на время установки света; я обратил внимание, что дублерам, привыкшим к английскому кино с его неподвижными планами, претило передвигаться внутри декорации. Поскольку нам с Николасом Рэгом часто приходилось выверять планы-эпизоды, я неоднократно вставал на место Оскара Вернера и понял, что перед камерой возникает совершенно особое вдохновение для работы над мизансценой. Это побудило меня сыграть роль доктора Итара в «Диком ребенке», который полностью берет на себя заботы о ребенке, но сохраняет абсолютную нейтральность. То же сделано в «Американской ночи», где я передвигаюсь среди актеров, вместо того чтобы подавать им знаки издали.
Что касается «Тесных контактов третьей степени», где я, наконец, должен был бы ощутить себя актером, у меня никогда не возникало впечатления, будто я играю роль: было чувство, словно я отдал взаймы свою телесную оболочку. Спилберг показал мне две тысячи эскизов режиссерской разработки; поэтому я знал, что он хочет создать большую мультипликацию, и понял, что могу убрать в чемодан специально купленную по этому случаю книгу Станиславского. Мне хотелось оказаться идеальным актером, который никогда не задает вопросов, хотелось, чтобы у Спилберга не возникало из-за меня никаких трудностей. В некоторых сценах перемещение камеры осуществлялось с помощью компьютеров, чтобы обеспечить точность последующих трюковых съемок, поэтому мы имели возможность сразу же проверять результаты на экранах мониторов. Я смотрел на изображение и говорил себе, что здесь было бы изящнее чуть развести руки и сделать силуэт более четким. Я испытывал истинное удовольствие.
В игре актера-режиссера всегда есть нечто особое; мне кажется, я уже писал об этом в связи с Орсоном Уэллсом. Иной оказывается не только игра, но и построение мизансцены.
Когда мне приходится играть на сцене с несколькими персонажами, то, как только мне уже нечего говорить или делать, я выхожу из кадра и возвращаюсь к камере, чтобы следить за съемкой; если бы дело касалось актера, я нашел бы ему место в кадре вплоть до конца плана. Поэтому в фильмах актеров-режиссеров совсем по-иному входят и выходят из кадра. Двойная функция влияет также и на стиль игры, которая становится игрой-наблюдением. С этой точки зрения очень трогательно и забавно смотреть «Бал вампиров». Вы видите старого актера и рядом с ним Романа Полянского. В отдельные моменты у старика довольно длинные реплики, и если смотреть не на него, а наблюдать за Полянским, то видно, как он шевелит губами вместе со стариком, напряженно глядя на него в надежде, что тот сумеет произнести весь свой текст без ошибки.
«Бал вампиров» очень хороший фильм; но даже если бы он мне не нравился, я поддерживал бы его ради такого рода деталей.
«К а й е»: Есть кинематографисты, которые производят впечатление стареющих людей. Годар, например, говорит ныне о своем фильме «Номер 2″: «Я скорее дедушка, чем отец». В Ваших фильмах не ощущается наступления старости. У Вас словно нет возраста; то ли Вы никогда не были молодым, то ли Вы никогда не постареете.
Трюффо: Конечно, я старею, но я не склонен жаловаться. Я очень хочу стать дедушкой и уже был бы им, если б мои дочери не тратили попусту время, глотая противозачаточные таблетки. Старость дает известные преимущества, например большую свободу языка. И если я действительно потерпел неудачу с циклом Дуанеля, то причина в том, что мне не удалось сделать Антуана старше; он застыл на определенной стадии, подобно персонажу из мультипликации.
Снимая «400 ударов», я был старшим братом главного персонажа, снимая «Дикого ребенка» — отцом Виктора, снимая «Карманные деньги», чувствовал себя дедушкой; там была, между прочим, сцена, которую пришлось вырезать из-за неудачной игры исполнителей и которая пересказывала в изобразительном плане стихотворение «Жанну посадили на хлеб и воду», взятое из книги «Искусство быть дедом». Что касается свободы языка стариков, я хотел бы привести в пример высказывание моей давней приятельницы, которой исполнилось 85 лет и которая руководит одним из парижских мюзик-холлов. Придя в восторг от визита папы римского, за которым она следила по телевидению, она зовет свою секретаршу и говорит: «Я продиктую Вам письмо папе». И начинает: «Дорогой Святейший Отец, Вы меня проняли до самого нутра… »
«К а й е»: С Годаром все ясно; он говорит: «Мне пятьдесят лет, я старею», и это явно начинает его беспокоить. Если вспомнить его фильмы, то в них в течение долгого времени он рассказывал лишь о мужчине и женщине — ни стариков, ни детей. И вдруг в фильме «Номер 2″ появляются дети; режиссер стареет, и это видно по тому, что он начинает интересоваться людьми гораздо моложе его или же своими сверстниками…
Трюффо: Среди работ Годара мне всегда больше нравились фильмы, где он показывал людей моложе себя: «Мужское — женское», «Отдельная банда» или «Китаянка». Я не очень одобрял его попытку создавать социологические анкеты. Мне был приятен дружеский взгляд, каким он смотрел на двадцатилетних, когда ему самому было лет тридцать пять.
«Кайе»: Теперь ему пятьдесят, и он интересуется десятилетними…
Трюффо: Интересуется ими лишь при условии, что они скажут то, что он хочет услышать. В картине «Франция, поездка — объезд, двое детей» есть маленькая девочка, которая на протяжении десяти минут не хочет произнести, что школа — это тюрьма, просто потому что она так не думает. В конечном счете голос Годара перекрывает ее голос, Годар говорит, что эта девочка разговаривает как «маленькая старушка». Отвратительный прием, который он называет общением с другими!
«К а й е»: Любопытно, что Вы делаете друг другу упреки этического порядка.
Трюффо: Потому что каждый из нас считает другого ханжой и негодяем. Годар сказал где-то: «Я сделал этот фильм, чтобы понять детей». Детям не нужно, чтобы их понимали, им надо, чтобы их любили.
«К а й е»: Поразительно то, что у Вас с самого начала возникли собственные кинематографические объекты: дети, мужчины, женщины… С тех пор мало что изменилось.
Трюффо: Да, правда, все находилось на своем месте с самого начала. То же можно сказать про Ривета, достаточно вспомнить его ленту «Париж принадлежит нам», который был своего рода киноанонсом всего его творчества. Выбор материала совершается инстинктивно и искренне. В фильмах Хичкока мало занимаются спортом, в фильмах Вернея мало поют; люди снимают то, что любят.
«К а й е»: Люди снимают лишь то, что для них особенно важно: любовь, ненависть, ненависть-любовь, иногда все усложняется, но есть нечто такое, чего в кино нельзя выдумать, а именно: выбор объекта, который окажется перед камерой…
Трюффо: Потому-то у меня часто вызывали недоверие некоторые итальянские политические фильмы. Спрашивается, может ли режиссер с удовольствием идти каждое утро на работу, чтобы бичевать своего персонажа — корыстного дельца или продажного комиссара полиции? Ну а актер — в чем его удовольствие? Нормально работа актера состоит в том, чтобы защищать персонаж, заставить полюбить его, не так ли?
«К а й е»: Странная мысль, что персонажей надо защищать, словно им грозит нападение. Ведь публика знает, что перед ней не настоящая жизнь. А у Вас чувствуешь, будто персонажи существуют в действительности и их следует защищать. Так же, как надо защищать Хичкока, если бы на него стали нападать, или Жан-Пьера Лео… Спустя двадцать лет Клер Морье (исполнительница роли матери) в «400 ударов» не кажется
такой уж злой; в результате возникает странная киносемья, где живые и мертвые, вымышленные и реальные персонажи -все меряются одной меркой…
Трюффо: Конечно, для меня все персонажи реальны вплоть до озвучания: затем они становятся реальными для публики, пока она смотрит фильм.
Полин Кел сказала любопытную вещь. Она ополчилась на «Американскую ночь», но ее статья была более занятной, нежели многие похвалы. В общих чертах она сказала: «Трюффо хочет заставить нас поверить, будто любые съемки увлекательны, тогда как мы хорошо знаем, что съемки плохого фильма — сущее дерьмо». По-моему, она ошибалась, ибо, как часто говорил Ренуар, искусство есть не результат, а сам акт творения: творить вкусную пищу, творить любовь, творить фильм. Но в общем мне очень понравилось ее мужество, сказавшееся в нежелании стать сообщницей фильма перед лицом читателей [… ].
Когда я снимал «Дикого ребенка», где надо было дать много абстрактной информации, я допустил несколько ошибок из-за недостаточной уверенности в себе. Особенно я сожалею, что отказался от важной сцены, опасаясь, как бы она не показалась неясной. После многих усилий доктор Итар научил Виктора опознавать молоток, ключ, гребень, ножницы сначала по их зрительному изображению на грифельной доске, а затем по письменному обозначению на карточке. Когда Жан Итар показывает ребенку карточку со словом «ножницы», мальчик идет в соседнюю комнату и приносит ножницы.
В сцене, которую я вырезал, видно было, как Итар заменял книгу, с которой привык иметь дело Виктор. И тут же, не узнав книгу, ребенок отказывался взять ее и возвращался к Итару с пустыми руками. Эта не слишком абстрактная сцена иллюстрировала представление о расширении понятий. Я всегда буду о ней сожалеть, но у меня было только шесть недель на съемки, фильм всем казался трудным, и я не хотел делать его длиннее полутора часов.
«К а й е»: Всякий раз, когда кинематографист пытается подвергнуть свою работу «лабораторному» анализу, он может увлечь таких людей, как мы, но теряет при этом публику. Всякий раз, когда он хочет сохранить публику, он вынужден прибегать к широким обобщениям, многое идеализируя.
Трюффо: Вы на сто процентов правы. Можно ли заниматься в кино тем, что делали Бергсон, Пруст, Сартр, можно ли отбросить синтез ради анализа? Думаю, что можно, но на короткий срок, в некоторых сценах, а не на протяжении целого фильма. Успех «Моего американского дядюшки» иллюстрирует такого рода подход. Здесь важно соотношение между невозможным и возможным. В фильме могут быть тонкости, но он не может быть изощренным с начала до конца: пленка движется слишком быстро, необходима смена скорости мышления. Когда читаешь книгу, постоянно меняется ритм чтения в зависимости от трудности или легкости той или иной страницы. Колетт, утверждавшая с 1937 года, что Клодель превосходит Жироду, писала: «Я хорошо вижу, чем грозит драматургу отказ от простодушия. Вечная простота и грубость средств, равно как и самого текста, — это унижения, которые с инстинктивной радостью налагает на себя подлинный человек театра». Это определение гениально. Колетт была гением.
«К а й е»: Считаете ли Вы себя новатором? Стремились ли Вы к этому?
Трюффо: С самого начала я во всеуслышание утверждал, что я — не новатор, быть может, пытаясь защищаться, ибо после показа в Каннах «400 ударов» многие утверждали: «Да тут нет ничего нового!», возможно, в сравнении с фильмом «Хиросима, любовь моя». Осуждая картину, говорили: «Это — Паньоль» — из-за темы внебрачного ребенка, или «Это — Диккенс», или еще «Это — мелодрама»; я не усматривал в этих определениях ничего уничижительного и вспоминал старую французскую пословицу: «Кто слушает лишь один колокол — слышит только один звук», надеясь привнести собственное звучание, если мне не помешают.
Нет, я, безусловно, не новатор, ибо принадлежу к тем, которых уже немного и для которых существуют понятия: персонаж, ситуация, развитие действия, перипетии, ложные линии, словом, к тем, кто верит в зрелище.
Немногим из режиссеров суждено быть новаторами. Гриффит придумал стык по оси взгляда; его последователи Джон Форд и Говард Хоукс усовершенствовали этот прием повествования; Хичкок изобрел субъективную мизансцену и смену точки зрения на девяносто градусов; Орсон Уэллс придумал перемещение по диагонали. В наши дни творит такой великий визионер, как Феллини, но его изобретательность разворачивается перед камерой. На съемках фильма «451 по Фаренгейту» я почувствовал пределы своих возможностей в визуальном плане: слишком велико было расхождение между оригинальностью темы и банальностью ее разработки; я понял, что мой путь — это сфера фильмов, построенных вокруг персонажей. Что говаривал Джон Форд? «Я снимаю симпатичных героев в интересных ситуациях».
Что касается политики, я придерживаюсь левых взглядов, в духе Мендес-Франса, но в моих фильмах это не выражено прямо, возможно потому, что в политику вкладывают, как мне кажется, слишком много эмоций. По-моему, не следует причислять себя к левым или сочувствовать им только для того, чтобы выглядеть более молодо и привлекательно, а не потому, что их позиция кажется Вам справедливой. Лозунг «Все есть политика» мне чужд, ибо если все — политика, то ничто не политика. Порой я склоняюсь к мысли, что все относится к сфере чувств, но это, по сути, та же ошибка. Человека, осмелившегося утверждать, что все — эротика, сочли бы маньяком, и только.
Если вдуматься, моя работа состоит часто в том, чтобы снимать сцены, которые я пережил и хотел бы воссоздать, сцены, которые мне хотелось бы пережить, и, наконец, сцены, которые я боюсь пережить или оживить в памяти. Как ни относиться к подобной системе, при ней достаточно выбрать тему, а сценарий уже пишется почти сам собою, и я не слишком задумываюсь над его значением.
В таком фильме, как «Малыш» Чаплина, соединено все, что я люблю: смех, слезы, танец, мечта, еда, способность выжить, уличная школа жизни и даже то, что ныне называют «поиском собственной личности».
«К а й е»: Работать означает, по-Вашему, не уклоняться от намеченной борозды? Однажды Вы сказали, что нет ничего хуже, когда посреди пути говорят: «Я все полностью изменю». В крайнем случае лучше продолжать…
Трюффо: Менять идею в самом процессе съемок, несомненно, плохо, но от фильма к фильму изменение взглядов возможно и даже неизбежно. Изменение это относительно, поскольку я считаю, подобно Сименону, что в своей работе мы используем все, случившееся с нами в промежутке между рождением и четырнадцатилетним возрастом. Разумеется, если бы публика перестала делать вид, будто верит в те истории, которые мы рассказываем ей, если бы она отвергла ли-неарность повествования и признавала бы только сюжеты с перебивками (в виде песенок, погонь или схваток каратэ), тогда я перестал бы снимать фильмы, не сумел бы приспособиться.
О режиссуре много говорят, но мне никогда не доводилось услышать четкое определение этого понятия. Мне кажется, режиссурой можно назвать комплекс решений, принимаемых до, во время и после съемок — постольку, поскольку эти решения влияют на конечный результат. Я полностью присоединяюсь к мнению романиста Джона Бакена: «Я не придаю никакого значения ни словам, ни фразам, ни чувствам, ни идеям, но для меня много значит то неясное смешение, в которое, помимо нашей воли, все это превращается». Снимать фильм или писать письмо — занятия не столь уж различные. Мне случается снимать фильм, думая исключительно об одном человеке, который, может быть, вовсе не пойдет его смотреть, и я говорю себе, что трачу пять миллионов, тогда как письмо обошлось бы мне в один франк тридцать сантимов.
«Кайе»: Что же означает фильм, помимо потребности выразить себя?
Трюффо: Дело не только в том, чтобы выразить себя, но и в том, чтобы сделать явным испытываемое в работе удовольствие, донести это удовольствие до зрителей. Радость созидания. Больше всего зла причиняют в жизни две вещи: отсутствие воображения и неспособность распределить информацию должным образом. Создание фильма постоянно побуждает думать о том, что испытывают другие, и заставляет располагать информацию в таком порядке, который вызовет самый большой интерес.
Если бы мне надо было показать взволнованного человека, который очень хочет встретиться с другим человеком, я не удовольствовался бы тем, чтобы снять его поднимающимся по лестнице и стучащим в дверь второго, который отвечает: «Войдите». Я показал бы, как человек тщетно стучит в дверь, грустно спускается по лестнице и встречает приятеля на полпути. Такой упрощенный пример показывает разницу между документальным и художественным фильмом. Работать в художественном кино — значит «организовывать» встречи.
Фильмы снимают для того, чтобы выразить себя, но еще и
потому, что этого хотят другие. Надо, чтобы другие хотели. Если речь не идет о работе с пленкой «супер-8″, мне кажется недостаточным, чтобы фильм хотел снимать только один человек. Надо, чтобы хотели все — и технические специалисты, и актеры, чтобы все были заинтересованы. Надо, чтобы продюсеры говорили себе: «Кажется, с этим типом нам удастся заработать». Феллини неоднократно повторял: «Я сделал фильм потому, что подписал контракт». Тут, как в любви, надо, чтобы тебя пожелали. Когда некоторые жалуются, что им не дают снимать фильмы, это похоже на попытку подать такую петицию: «Ах, какая несправедливость, я требую, чтобы меня любили… » Что было бы, заметьте, довольно мило…
1980